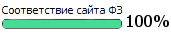«Он всё пропускал через себя...» Писатель и формалист Юрий Тынянов
Тынянов был теоретиком и историком литературы, но широкой публике он прежде всего известен как автор романов «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и многочисленных исторических новелл, исследующих природу бюрократизма и деспотизма.
.png)
В город на Каме Юрий Тынянов приехал из осажденного фашистами Ленинграда. Пушкинист приехал настолько больным, что еле передвигался на костылях, а потом и совсем слег. Но совершенно больной Юрий Тынянов не расставался с пером. А когда рука уже не могла держать перо, он диктовал, спешил рассказать о Пушкине и его современниках всё, что знал сам. Это писательский подвиг талантливого пушкиниста, создавшего в Перми свои последние произведения. История болезни Юрия Тынянова хранится в архиве Военно-медицинского музея в городе Санкт-Петербурге, Лазаретном переулке.
Детство и юность писателя и ученого
Юрий Николаевич Тынянов родился 18 октября 1894 года в Режице Витебской губернии (ныне Резекне в Латвии) в обеспеченной еврейской семье. Его отец, врач, Николай Аркадьевич, был родом из Бобруйска, а мать, Софья Борисовна Эпштейн, — из местечка Докшицы.
В возрасте семи лет он впервые увидел кинофильм. Картина о Французской революции произвела на него неизгладимое впечатление, но не сюжетом, а... трещинами и дырами на пленке. Позднее такое «видение», позволяющее свежим взглядом посмотреть на привычные явления, его друг и коллега Виктор Шкловский назвал «остранением».
Отец Тынянова страстно любил русскую литературу, особенно произведения Салтыкова-Щедрина. А любимыми поэтами Юрия в детстве были Пушкин и Некрасов.
Тынянов описывал Псков как город, ставший для него вторым домом. С 1904 по 1912 год он учился в Псковской мужской гимназии, которая сыграла важную роль в его литературном становлении. Тынянов много времени проводил с друзьями, исследуя окрестности, и эти прогулки оставили у него самые теплые воспоминания. В гимназии он дружил с Августом Летаветом, будущим выдающимся советским гигиенистом, и Львом Зильбером — братом еще одного писателя, Вениамина Каверина. Зильбер позднее рассказывал о Тынянове, что тот знал наизусть огромное количество стихотворений, часами читал их вслух, писал стихи с раннего детства и сам. А Вениамин Каверин в своей трилогии «Освещенные окна» отмечал, что Тынянов еще в гимназии решил посвятить свою жизнь изучению истории литературы.
Окончив гимназию с серебряной медалью, в 1912 году Тынянов поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Поначалу он был ошеломлен масштабами учебного заведения и количеством аудиторий. Иногда «ошибался дверью», и эти «промахи» помогли ему прослушать лекции таких выдающихся ученых как биолог Валентин Догель и химик Лев Чугаев. Но особенно запомнились ему лекции историка Максима Ковалевского, который делился воспоминаниями о Карле Марксе.
Еще в гимназии он развил аналитические способности благодаря наставнику, учителю словесности В. И. Попову. Исследователь творчества писателя Владимир Новиков отмечает, что уже первые научные работы Тынянова — доклад «Литературный источник 'Смерти поэта'» (1913) и исследование «Каменного гостя» Пушкина (1914) — были концептуально насыщены и продемонстрировали его умение анализировать литературный процесс.
В университете Тынянов участвовал в пушкинском семинаре Семена Афанасьевича Венгерова. Семинар был больше литературным обществом, чем академическим курсом. Здесь обсуждали сюжеты и стили, спорили о литературе, Венгеров активно поддерживал дискуссии. В своей автобиографии Тынянов вспоминал, что был поражен, насколько его восприятие Грибоедова отличалось от общепринятых оценок. Но его доклад о Кюхельбекере получил одобрение Венгерова и стал началом его настоящей научной деятельности.
«Я сказал руководителю, что Сальери у Пушкина похож на Катенина. Он мне ответил: «Сальери талантлив, а Катенин был бездарен». Он научил нас работать над документами, рукописями. У него были снимки со всех пушкинских рукописей Румянцевского музея. Он давал их изучать каждому, кто хотел. В Румянцевский музей тогда студентов на порог не пускали. В Публичной библиотеке были снисходительнее», — писал Тынянов.
Формалист Юрий Тынянов
В 1918 году Юрий Тынянов стал участником ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка, русская формальная школа), где вместе с Виктором Шкловским и Борисом Эйхенбаумом разрабатывал научные основы литературоведения — «формальный метод». В 1919 году он представил работу «Пушкин и Кюхельбекер», которая была утрачена в годы Гражданской войны, а позже написал одноименную статью. Тогда же Венгеров оставил его преподавать в университете, что помогло Тынянову без помех заниматься наукой в те неспокойные годы.
В 1920-е формалисты кардинально изменили представления о литературе, отвергая идеи о том, что литература лишь отражает общественные процессы и является документом эпохи. В России такие взгляды были популярны со времен Белинского, Чернышевского и Добролюбова, которые анализировали литературу с точки зрения социальных интересов.
Однако в начале XX века появились новые концепции и критики. Аким Волынский и Корней Чуковский акцентировали внимание на символизме и многозначности искусства. Юлий Айхенвальд в своем сборнике «Силуэты русских писателей» (1906) также утверждал, что искусство раскрывает вселенские тайны и обладает символическим значением.
С приходом советской власти реалистическая критика вновь обрела популярность, правда, акцент сместился на экономический материализм. Литературу стали рассматривать как отражение классовых интересов, что привело к упрощенным интерпретациям произведений.
Формальная школа, к которой принадлежал Тынянов, предложила иной подход: литературный материал эстетически трансформируется, поэтому произведения нельзя воспринимать как исторические документы. «Там, где кончается документ, там я начинаю, — писал позднее Тынянов, которому из-за гонений на формалистов пришлось стать литератором, даже беллетристом.
Тынянов о пародии
Тынянов также различал пародию и стилизацию, подчеркивая обязательное «несоответствие» между планами в пародии, что сигнализирует о ее присутствии. Однако, писал он, восприятие пародии не ограничивается этим сигналом. Читатель вступает в диалог с текстом, пытаясь понять, что и почему пародируется и что хотел сказать автор.
Вместе с тем он отмечал, что ни первый, ни второй план, ни факт их несоответствия не дают полного художественного смысла пародического произведения. Каждая пародия обладает своим, третьим планом — уникальным смыслом, который возникает из взаимодействия первых двух и не может быть передан другими средствами. Восприятие этого третьего плана зависит от индивидуальных особенностей и информированности читателя, который в силах уловить контекст, но именно он и обеспечивает глубокое понимание пародии.
Личная жизнь Юрия Тынянова
В 1916 году Тынянов женился на Елене, сестре Льва Зильбера и Вениамина Каверина. В том же году у них родилась дочь Инна. С 1919 года Тыняновы жили в Петрограде, в квартире на углу Греческого проспекта и 5-й Советской улицы.
Виктор Шкловский вспоминал, что квартира была светлая и почти пустая, без вешалок, и пальто приходилось вешать на выключатель. Частыми гостями дома были Вениамин Каверин и Ираклий Андроников. Позже Лидия Тынянова, младшая сестра Юрия, вышла замуж за Каверина. Именно она стала прототипом Кати Татариновой из романа «Два капитана».
Когда Тынянов заболел — еще в 1920-х у него диагностировали рассеянный склероз, — отношения с женой, ставшей к тому времени признанной виолончелисткой, разладились: Елена не поддерживала его, а постоянно упрекала в немощи. За это Надежда Мандельштам даже называла ее «ведьмой». А друг Виктор Шкловский писал: «Болезнь его была как будто медленная — то глаз поворачивался не так, как надо, и видение начинало двоиться, то изменялась походка, потом проходило».
Дочь Инна Юрьевна Тынянова стала поэтессой и переводчицей с испанского и португальского языка.
Уральское наследие Юрия Тынянова
Тынянов Юрий Николаевич поступил в госпиталь №3149 19 августа 1942 года. Домашний адрес – город Молотов, гостиница «Центральная», комната 604. В истории болезни указано: «Начало основного заболевания относится к 1927 году, когда у больного появилось периодическое двоение в глазах, затем стала развиваться слабость ног, расстройство почерка».
В 1927 году Тынянов ездил в Берлин, а в 1930 году – в Париж. Он не хотел верить своей трагедии, хотя хорошо знал свой диагноз и то, что рассеянный склероз мозга везде – и у нас в стране, и за границей считался неизлечим. Писатель стремился победить тяжелый недуг силой своей воли и мужеством своего сердца. Свидетелями его труда стали пермские врачи, не отходившие в те дни от постели больного. Начальник эвакогоспиталя №3149, военврач 1 ранга, профессор Василий Корнилович Модестов, профессора А.Л. Фенелонов, Д.С. Футер, П.А.Ясницкий, доцент С.П.Швецов лечили и консультировали Ю.Тынянова.
Автору статьи удалось встретиться с А.Л.Фенелоновым, он преподавал тогда в Пермском медицинском институте. Встреча проходила в том самом здании на улице Луначарского, 95, где когда-то лечился Юрий Тынянов. Вместе с профессором поднялись на второй этаж, открыли дверь в небольшой кабинет. Аркадий Лаврович сказал:
- Здесь Юрий Тынянов провел полгода своей жизни, здесь он писал роман о Пушкине, сочинял рассказы….
Седой профессор стоял посреди кабинета, потупив взгляд, вспоминал те нелегкие дни, когда были переполнены ранеными все коридоры госпиталя. Указал профессор и то место, где стоял его рабочий стол, рядом с постелью птсателя.
- Пожалуй, ещё не казался мне настолько постылым и никчемным мой письменный стол, как тогда, - сказал Фенелонов. – я придвинул стол к изголовью писателя. Ему он был нужнее…
- И ему разрешили работать?
- Сначала мы ему запретили всякую умственную работу, но это оказалось ещё пагубнее. Тынянов стал острее переживать своё положение – работа, наоборот, давала ему возможность отвлечься, забыться. Мы, проведя, врачебный консилиум, снова разрешили ему снова трудиться. В длинные, осенние ночи он обдумывал очередные страницы романа, а утром заносил бумагу или диктовал кому-либо из посещавших его друзей. Потом забывался сном и до обеда старались реже заходить в кабинет.
- И Вы тогда читали Тыняновские страницы?
- Да, приходилось… Помню, однажды после нескольких проведенных подряд операций я зашел к Юрию Николаевичу и зачитался рукописью, в которой рассказывалось о юности Пушкина - читал с упоением. Далекий лицей, опустошенный фашистами, прекрасные парки и юный Пушкин со своим первыми стихами вставали передо мной, то как наяву, то как сквозь сон. Страницы были написаны еще неровно, не были отделаны до конца. Разборчивые, ясные мысли, образные строки чередовались с трудно читаемыми – и по почерку, и по логике. Сказывалась болезнь. Человек жил, а клетки мозга незаметно для него умирали. И как радовались мы, когда на крупно исписанных листах мелькали яркие образы прежнего Тынянов, которого я знал и любил по первым книгам….
- А разве, Аркадий Лаврович, нельзя было помочь Тынянову? Скажем, сделать операцию?
- В том все и дело, что мы ни чем не могли помочь. Болезнь его считалась неизлечимой не только в 1927 году, когда обнаружили у писателя её зловещие признаки, но и в 1942 году, когда он стал пациентом нашего эвакогоспиталя. Мы с коллегой, профессором Футером, делали тогда сложные операции на головном мозге. Потому секретарь Пермского горисполкома Людмила Сергеевна Римская и обратилась к нам с просьбой принять писателя под свою опеку. Обследования показали, что никакая операция Тынянову не поможет. Мы старались всячески поддержать его, облегчить страдания. Но почему-то получалось так, что поддерживал он нас, вселял оптимизм и веру в человеческий разум. Мы удивлялись его душевной стойкости. Тынянова спасали не мы, врачи, а Пушкин и его герои…
Весной 1943 года Юрия Тынянова перевели в одну из московских клиник, а в декабре скончался, когда ему и не было и пятидесяти лет. В Пермской газете «Звезда» был опубликован некролог о Юрии Тынянове, подписанный его друзьями.
«Тягостная весть: 20 декабря в Москве после тяжелой болезни скончался Юрий Николаевич Тынянов. Умер один из лучших советских писателей страны, создатель «Кюхли», «Смерти Вазир-Мухтара» и «Пушкина». Ушёл из жизни человек огромной гуманитарной культуры, блестящий историк российской литературы, лучший сердцевед Пушкина и Грибоедова, великолепный мастер, переводчик Гейне.Угас острый ум философа, крупный талант стилиста-новатора».
Пути войны привели Юрия Тынянова из Ленинграда в Пермь. И здесь, уже надломленный болезнью и прикованный к больничной койке, Юрий Николаевич диктует друзьям свой последний труд – третью часть романа «Пушкин». Так мысль и страсть писателя творят не только ценнейшее произведение о гении величайшего нашего национального поэта, но и совершают великий и благороднейший подвиг на благо поколений русского народа и его литературы. Наша боль и печаль – верных друзей и современников замечательного писателя – остра и священна. Память о нем и слава его неугасимы».
Подписали этот некролог 18 человек, в основном те, кто знал Юрия Николаевича по трудным уральским месяцам его жизни. Среди них были Михаил Козаков, профессор К.Державин, Е.Полонская, Л.Римская, И.Каранаухов, С.Розенфельд, Т.Вечеслова, И.Гринберг, Б.Михайлов, М.Комиссарова, И.Меттер, З.Никитина и другие.
Показал я некролог профессору А.Фенелонову. Он прочел и сказал: в конце 1943 года я выезжал на фронт для консультирования врачей, этого некролога не видел. Но многих, кто подписался под ним, хорошо помню. Про Римскую я уже говорил, она была потом директором Пермского книжного издательства. Навещали Тынянова эвакуированные ленинградские писатели Соколов-Микитов, Михаил Козаков и его жена Зоя Никитина, артистка Татьяна Вечеслова, Пермский поэт Борис Михайлов и «Серапионова сестра» Елизавета Полонская. А вот Семён Розенфельд, как вы уже знаете, даже роман написал, в котором ваш покорный слуга выведен под именем профессора Харитонова.
Фенелонов показал мне старое, еще Пермское издание книги «Доктор Сергеев» с автографом автора. В книге были отмечены страницы, где рассказывалось, как военный Сергеев лечился в тыловом госпитале, как главный хирург профессор Харитонов сделал ему сложную операцию и спас от инвалидности. Там же Сергеев встретился с больным писателем. Имя его не названо, но сказано, что он – автор книг о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине. Это был, конечно, Юрий Тынянов. Мысль и страсть Тынянова помогли ему в неимоверно тяжелых условиях войны совершить благородный подвиг труда на благо русского народа и его литературы.
И последние уральские страницы Юрия Тынянова, хотя и в разное время, стали достоянием духовного арсенала нашего отечества. Можно сказать: писатель творил, как и мечтал, - до конца. Описывая прощание поэта с юностью, Тынянов словно описывал своё прощание с друзьями: «Выше голову, ровней дыхание. Жизнь идет, как стих».
Тынянов Юрий Николаевич умер 20 декабря 1943 года в Москве.
Для справки: Кабинет Фенелонова Аркадия Лавровича находился на 2-м этаже в нервно-терапевтическом корпусе. Рядом с операционной был узкий кабинет (в этом кабинете и лечился Юрий Тынянов). Операционная во время войны была развернут там, где сейчас кафедра неврологии, а рядом с входом в кардиологическое отделение, был кабинет А.Л.Фенелонова.